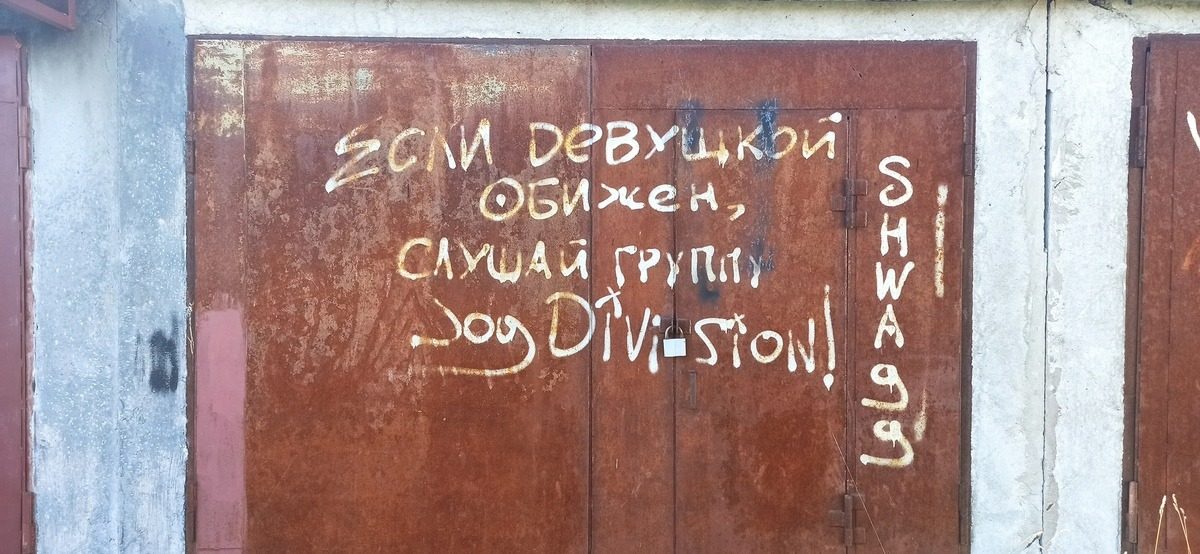— В детстве я был пронизан ощущением, что произошла катастрофа мирового масштаба. Всё, что осталось на складах – было произведено в СССР. И когда всё это закончится – ничего нового уже не будет. Так называемый «конец истории» случился. И этот вот скачок, пропасть, не измеришь в годах. Ибо что такое четыре-пять лет? Кажется – пустяк. Что такое развал СССР? Катастрофа! Я ещё не знал умных слов, фактов истории, выкладок политэкономистов и геополитиков. Но я ощущал глубину этого разлома всем сердцем…
Год 2013. Мы с Сеней бухаем на холме, аккурат под табличкой «Воронежу – 425 лет». Он только что поделился со мной воспоминаниями из детства. От солнца и выпитой водки мне кажется, что весна уже наступила. Так и должно быть – март на дворе. Но ещё три дня назад носу на улицу нельзя было высунуть. А сегодня мы без шапок, нараспашку, весёлые и хмельные. Островки свалявшегося снега, трава цвета волос Игги Попа, обрывочные воспоминания из нашей жизни. Нет, мы не подводим итоги, а наслаждаемся причудливостью памяти. Эстафету перенимаю я.
— Я помню тот осенний вечер, когда мы собирали с мамой каштаны в саду школы неподалёку от пятиэтажной хрущёвки, в которой мы жили тогда. Мне не могло быть больше четырёх или пяти лет. Я помню всё, что действительно достойно внимания: в какой цвет окрашен тот вечер, запах воздуха, какие на ощупь каштаны. Но ни о какой катастрофе тогда не задумывался. По всей видимости, это был сентябрь 1993, за месяц до расстрела правительственными танками Белого дома в Москве. Но ничего такого я не могу помнить, а из взрослых никто об этом не говорил… У меня недавно мама сама спросила: «Неужели и вправду столько жертв было? Кошмар! А быстро тогда дело замяли». Вообще, Сень, самые мои яркие воспоминания связаны с запахом воздуха, ароматом прелой листвы, пасмурными днями, когда я сидел дома, укутавшись в одеяло и читал кого-нибудь вроде Николая Носова. Потом какие–то разговоры про Чечню, одну девчонку во дворе у нас дразнили «чеченкой». Помню, уехал в пионерлагерь (или как правильно это назвать теперь?), а Радуев объявил о том, что собирается взорвать вокзал в нашем городе. Помню ведь, что туда ехали на поезде, а из лагеря меня забирали на автобусе. Помню, мне ужасно опостылел этот месяц вне дома. Я просто рыдал, когда приехала мама, не смог сдержаться от переполнявшего меня… чего-то там. И, кажется, в том же году пошёл в школу…
– Да, я помню эти буквари ещё советского образца, где «Мама мыла раму», «Папа у Коли – сталевар» и прочее. Кажется, в школе по ним не учились уже, а вот дома они валялись. Синие такие…
– И особый, Сеня, инфернальный закат в том районе, где я жил! Он как наваждение приходит. Не знаю других строчек, которые могли бы у меня ассоциироваться с ним, лучше чем: «Летят самолёты и падают/ Лебединую песню поют / Самолёты падают на сёла и города. И трупы людей задавленных/ И трупы людей зарезанных взбивают пену толпы вокруг себя! Для них смерть – это весна! Это – весна, весна, весна – красна!».
– О, так это группа «Молотов коктейль». Культовая для 90–х. Интересно, а почему это такие ассоциации и почему закат инфернальный?
– Как тебе объяснить, друг. Тот район, где я жил, раньше был лесом. Деревья и в моём детстве окружали дома, эти самые хрущёвки. Сосны, ели. Для меня хвойные, особенно ели и сосны, всегда представлялись скорбными деревьями. Детство, его безудержная радость, всё время соседствовали со скорбью. По тому лесу мы гуляли с дедушкой, мне тогда года четыре было. Не помню, чтобы он мне сказки рассказывал, но научил слесарному делу, говорил, что большой из меня толк выйдет. Ха, Сеня, толк! Вот стоим мы, значит, и бухаем тут. Воронеж. 425 лет. Катастрофа. «Инфернальный закат». ****ь, да я слов таких не знал… – говорю, опрокидывая в себя содержимое пластикового стаканчика, – ух и гадость эта ваша bloody mary! — И понимаешь, Сень, деда через год не стало, поскользнулся зимой по пьяни и не встал. Сказочные прогулки по лесу прекратились. Лес стал мрачным и неприветливым. Стоп. Я, наверное, не о том. Он был мрачным, но дед знал тропки, а я вот эти тропки запомнить не успел. Да никто и не пускал меня одного в этот лес. Там всё какие-то алкаши местные и бомжи гуртились. Катастрофа, говоришь? Наверное, это как смерть деда. Тропки чудесные заросли, а мы запомнить не смогли, что, где, да как. И главное – куда!
– Будешь? – Сеня протянул мне сигарету.
– Давай…
Внизу проезжали машины, вдалеке блестел на солнце лёд, сплошь засеянный, – да как кучно-то! – рыбаками. Местами уже выступала вода.
В этот день мы решили начать писать книгу о себе, своей жизни, для себя.
Как водится – взяли выпить.
Я захватил из дому диктофон и закуски. Сложно представить, что из этого получится, но процесс мне нравился.
– Сеня, я тебя буду немного забивать в эфире сегодня, ты уж не обижайся. Смотри. Группу Nirvana я сознательно и целенаправленно послушал только в 16 лет. Но у меня полное ощущение того, что дух времени, нет, высокопарно… дух моего того района, города нашего, нашей страны, быть может, он много чем насыщено, но…
Мысли путались.
– Но Nirvana в моей жизни была всегда. Я слышал эти песни, когда считывал с белой кирпичной стены все эти корявые записи, когда вдыхал запахи мусоропровода, горелой свалки, чуть не наступал на шприцы с остатками крови, жгуты и закопчённые ложки, с избытком валяющиеся в бурьяне, от взгляда на которые всего перетряхивало. Запах карбида, который мы безбожно воровали у сварщиков и взрывали. Сеня, ****ь, одному чуваку оторвало палец, ты прикинь? Он шлёпнулся аккурат возле моей ноги, он даже ударился об кроссовок с изображённым на нём Микки-маусом. Палец.
– Дисней и трупы! Вот этот дух. «Чистилище» и мульты про Дональд Дака…
Мы выпили ещё водки, Сеня обратил внимание на неизбежную кончину этой бутылки. Всё смертно, друг, всё смертно.
Я решил, что водка – скорбный напиток и лучше расшибиться, но купить коньяку. Мы так резво сбежали с холма, что можно было подумать – мы научились двигать себя силой мысли.
Сила мысли. А так ли это здорово – передвигаться силой мысли?
А флэшбеки? У меня перед глазами проносились: Артём, которому оторвало палец, Курт Дональд Кобейн в окружении лилий, исполняющий свой самый пронзительный, меланхоличный и нежный концерт, свою лебединую песню, дед, так и не показавший мне тропок и каштаны.
Мама, споткнувшаяся в ванной о каштаны и попросившая не разбрасывать их, где ни попадя…
Мы подошли к убогому магазинчику.
Сеня перенял эстафету:
– Дорогие друзья! Перед вами павильон «Пётр I», выполненный в характерном жанре русской эпохи безвременья, он попадает в один типологический ряд с пресловутыми ларьками, ныне представляющими собой реликт…
Мы зашли в павильон.
Он строго разделялся решёткой на две поперечные секции, в одной из которых, ближе к входной двери, стояли мы с Сеней, а в другой, из вырезанного окошка выглядывало неприветливое лицо женщины «кому за…» (сорок – к примеру).
Кому – за. Комуза. Точно. Так и буду называть характерных тёток, кому за…
Комуза спросила:
– Что будете брать?
– Коньяк Черноморский, палку польской колбасы, сок мультифруктовый, сигареты «XXI век» и, пожалуй, всё.
Потом мы пили под мостом.
Я щупал своё лицо:
– Сеня, как думаешь, это же я, тот мальчик, что гулял с дедом по тем заветным тропкам, собирал каштаны? Кто радовался диснеевским мультикам по выходным, рубился в приставку, и зарёкся взрывать карбид после того случая. Погоди, да ему не карбидом оторвало палец. Он достал где-то то ли патрон, то ли ещё что–то… вот не помню и всё… А ещё девочке в зоопарке лев сорвал скальп, со мной училась… А один пьянчуга решил погреться на электроплитке, да так к ней и прижарился…
Когда успела закончиться бутылка коньяка? Мы её пьём силой мысли что ли? Ну да. Мы не подводим итоги, а наслаждаемся причудливостью памяти.
– Сеня, тот же я, что радовался, когда хватало на «Сникерс». Это же я тот самый Славик, который с пацанами собирал бутылки и цветной металл, чтобы купить «кока–колы»? Она была в причудливых бутылочках тогда. Напоминающих талию женскую. Тот же Славик, что рубился в «Dendy»? А ты – тот же Сеня, ощущавший мировую катастрофу? Я бегал по квартире с пластмассовым автоматом, когда к нам зашли на огонёк баптисты. «Такие игры – грех», – прошипела противная «Комуза». Год 95–й.
Солнышко село и ветерок начал лезть за шиворот.
В том же году, когда я ходил за каштанами, расстреляли Чикатило.
У нас в скорбном спальном районе тоже объявились маньяки. Один поджарил двенадцатилетнюю девочку на плите, другой насиловал женщин в том самом зачарованном леске.
Катастрофа, Сеня, катастрофа, говоришь?
Но были белки. У нас же не только лес неподалёку от дома находился, но и парк. Там белки с деревьев спускались, семечки и орешки прямо с рук ели.
В том парке отцу дали бутылкой по голове, в другой раз его оштрафовали за справление нужды в неположенном месте.
Катастрофа, это когда тебя семилетнего послали в магазин, а тётя-продавец обсчитала тебя, ты это заметил, но сказать ей ничего не смог. Пришёл домой и разрыдался.
Когда ребята во дворе объявили тебе бойкот по какой-то ерунде.
Когда ты знаешь точно, что тот лес вовсе не такой сказочный, а новые тропки некому показать. Ты их ищешь, ищешь, а отыскать не в силах. До сих пор.
Когда мама и папа решили разводиться.
Когда ты встречаешь первый свой безрадостный новый год. Вроде бы всё на месте: торт, шампанское, сок, бенгальские огни, подарки под ёлкой, куча вкусностей, «Старые песни о главном» по телеку идут. Вроде всё на месте, да что-то не так.
Ты уходишь спать раньше, чем обычно на новый год.
С того момента будто червь какой в душе завёлся.
– Что это, Сеня, что это за хрень, будто червь в душе завёлся? Пусто, пусто! Катастрофа…
Катастрофа – это когда двоюродный старший брат повесился на своей съёмной квартире. Так его и обнаружили. В видаке была вставлена кассета с концертом Нирваны «Unplugged in New York». Он всегда был странный, Юдик. Показал мне несколько аккордов на гитаре. Пустота. Червь в душе. У него тоже такие шприцы валялись, как в том бурьяне.
Мы сидим у Сени на кухне и уничтожаем запасы домашнего вина.
– А давай, друг, я тебе сейчас слабаю что-нибудь, например «Rape me».
Иду за гитарой в соседнюю комнату. Она стоит за диваном. Тянусь за ней, да так и засыпаю в этом положении.
В эту ночь, к счастью, мне ничего не снится.
2013, Воронеж, рассказ ранее нигде не опубликованный, под настроением от концепции «Россия без нас», то есть 90-е, все дела.
От редакции: К авторской прозе, пусть самой малой, не полагается послесловий, однако в данном случае будет исключение. Потому что — тот самый 94-й год и та самая песня, что не прозвучала на кухне у Сени.
Пусть «Россия без нас» наполняется нами хотя бы ретроспективным манером.
Лето 1994-го. Экспедиция на Алтай, организованная Дворцом пионеров на Ленгорах, однако не в пионерских целях, а — в эзотерических! «Живая этика», Рерихи, Блаватская — вот новые ориентиры, которых пока я не знаю, я просто напросился на правах уже знающего Алтай (был в 1988-м и 1991-м, причём в последний раз — работал в Леспромхозе, за Турочаком, но это уже мелькавшая в другой прозе история). Помимо знаний походной, экспедиционной жизни, имею со стороны организаторов задание — ознакомить их, «рерихнутых», с этикой Иммануила Канта…
Поездом до Барнаула, оттуда автобусом до Горноалтайска, две ночёвки, и далее автобусом… Конечная цель похода — подножье горы Белухи. Этому стечению людей и обстоятельств я благодарен до сих пор, поскольку: 1) познакомился там с бардом-самородком Кириллом Косаковским, с которым в том же году мы создали группу «Вельд», 2) Кирилл познакомил меня с поэзией Леонида Губанова, у него были и остаются обалденные песни на его стихи, частично попавшие в альбом «Русь, сумерки».
Спешившись с автобуса (пазика), мы шагали до первой стоянки в лесу около двух часов, ночью пережили набег местных конных «кочевников», которые будили нас ударами кнута по палаткам — да-да, и это тоже девяностые! Откупились от разбойников ночных бутылкой водки, наутро пошагали к первому перевалу, за которым следовала вторая ночёвка и, наконец, обстоятельное знакомство участников эзотерического похода у костра (есть видеозапись всего этого, но сейчас не о том). Оттуда мы шли уже по правому берегу реки, рождающейся из ледника Белухи — шумной и бирюзово-вОдной…
Пока шли, цепь растянулась из-за множественности тропинок на склоне, и ещё дождь пошёл. Я в какой-то момент за стеной дождя перестал видеть впереди и позади идущих, вымок до нитки. Но всё же как-то сквозь дождь нашёл путь к своим, а они решили сделать остановку, поскольку промокли все — там и заночевали, на площадочке меж деревьев примерно 6 на 6 метров. Но перед тем был миг, когда цайтгайст повеял под Белухой — в местах мифического Звенигорода (который предстояло построить просветлённым людям) и возможного входа в Шамбалу, поиском которого тут и занимался Николай Рерих в начале ХХ века. Цайтгайст вызывался не самым сложным образом — в НЗ была фляжка со спиртом. Как раз на такой случай: когда промокли, холодно, и костёр всё не разводится (уж не помню, с какой таблетки сухого спирта удалось его разжечь, этим я занимался). Но помимо сухого, был же настоящий спирт — мы разлили его по кружкам наиболее взрослым и наиболее промокшим.
И когда слабо разведённый спирт «Рояль» начал свою спасительную согревающую работу, мне захотелось петь! Не спьяну, нет — выражая победу человеко-коллектива над силами природы. Трезвому и хлебнувшему на безлюдных склонах адреналину помимо спирта существу моему хотелось как-то выразить всё это, с нами пришедшее, сейчас произошедшее. Кирилл с его двенадцатистрункой, кажется, ещё не дошёл до нашего костра, его рядом не было. В кадре зрительной памяти его нет. И, хотя до того, в Горноалтайске над рекою в первом лагере, были вечера у костра с песнями Кирилла куда более умными, глубокими, мелодичными (о Елене Блаватской, Андрее Рублёве, Пересвете) — попёрла из до того продрогшей, а теперь прогревающейся души песня с нового альбома «Нирваны».
Почему Rape me? «Нирвана» под акустику на фоне Белухи с её вечным ледяным анфасом, с белоснежным профилем?.. Ничего другого почему-то не вспомнилось в этой ситуации. Песня мало кого задела мелодикой и словами, и пел я её плохо — однако драйв был неподдельный, неэлектрический. Но не кобэйновский, конечно. Его и не требовалось — сугубо функциональное использование эмоциональной песни подразумевало работу мышц, просушку, не более того. Высушившись пением и бдением у огня, мы заночевали в наскоро разбитых палатках, чтобы завтра совершить последний переход…
Дмитрий Чёрный, ведущий РАДРЕАЛа